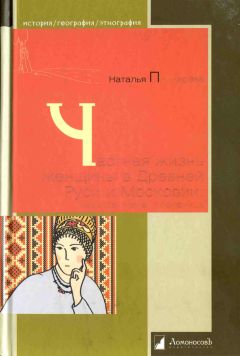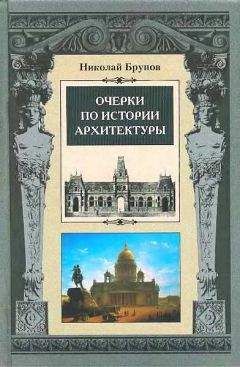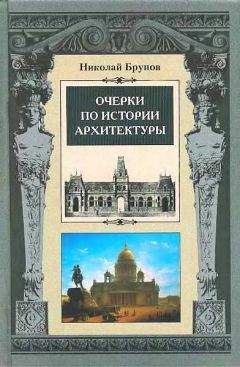А. И. Клибанов - Духовная культура средневековой Руси

Помощь проекту
Духовная культура средневековой Руси читать книгу онлайн
Так, на перекрестке двух разнонаправленных сил, заинтересованных, каждая по–своему, в христианстве, сложилась особая форма христианско–церковного устройства. Церковное устройство в его первичном звене оказалось внедренным в первичные социумы — крестьянские миры. Еще Н. П. Пав- лов–Сильванский обратил внимание на своеобразную обществен- но–идеологическую ячейку, какой являлась «мирская церковь». В ней объединялись функции гражданские с функциями религиозными, адаптированными к насущным запросам и интересам общественно–экономической, правовой, семейно–бы- товой жизни. Особенно важно то, что социально–религиозные функции соотносились не только с насущными интересами местного населения, но и осуществлялись с его участием. «Писцовые книги, — констатировал Павлов–Сильванский, — описывая общинные церкви, отмечают, что они сооружены на мирские средства, стереотипною фразою: «Все строение мирское». Мир сооружал церковь; попы были выборные; мир выбирал их и отводил им землю для ведения церковного хозяйства; где оно было обширно, мир иногда выбирал еще особого церковного приказчика». Это переплетение мирских и церковных функций выражалось в том, что «мирская церковь имела тесную связь с мирским самоуправлением; церковная трапезная (она была обширна и служила местом для собраний органов общинного самоуправления и общинных сходок для обсуждения текущих дел и проведения праздничных церемоний. — А. К.); в церкви хранилась мирская казна; выборный сотский был часто церковным старостой[20].
Воспроизведем выдержку из источника, приводимого Павло- вым–Сильванским, в котором убедительно отражен характер взаимоотношений церкви и мирской организации. Кроме того, этот источник не ранний, а поздний, что свидетельствует об устойчивости традиции, и относится он к нечерноземному центру, а не к северу, где общественные и культурные связи были долговечней: «Лета 7181–го, февраля в 14 день, Пошехонского уезду, Ухтомские волости, Кирилова монастыря, вотчины старого села Борисоглебского, поп Силуян Кирилов, да церковный староста Антроп Патрикеев, да выборные крестьяне (три имени. — А. К.) и все прихожане того старого села, посоветовав о церковном строении и выбрали из прихожан своих… Дея Исаева, что ему ехать в мир и собирать в церковное строение… В том ему, Дею Исаеву, мирской и выбор дали»[21].
В жизнедеятельности мира нашли место и своеобразные организации монастырского типа с приданными им одной или несколькими церквами. Как пишет Павлов–Сильванский, «в некоторых волостях вместо церквей сооружались мирские монастыри» (курсив мой. — А К.)[22]. Они служили филантропическим целям — материально–бытовому обеспечению населения на случай старости, болезней и инвалидности. О времени возникновения такого типа монастырей и степени их распространенности судить трудно из‑за недостатка исторической информации, впрочем специально и не изучавшейся. Павлов–Сильванский называет монастырь в Чюхченемской волости на Двине, о котором сохранилось письменное свидетельство, датированное 1582 г.: «Монастырь этот… был в полном подчинении у крестьян: казной монастырской распоряжалась волостная община»[23]. По–видимому, речь идет о Чюхченемском Никольском монастыре. Наличие такого типа монастыря соответствовало и общим распорядкам в Чюхченемской волости. Эта волость тогда имела своего земского судью — признак обладания реальной властью органами местного самоуправления[24].
Больничные учреждения существовали и при крупных монастырях–собственниках. Они известны уже с конца XI в. Это совсем иного типа больничные учреждения, чем те, о которых писал Павлов–Сильванский. Также иного типа были больничные учреждения, содержащиеся и за счет казны и добровольных пожертвований населения. Общее представление о положении этих больничных учреждений дают материалы Стоглавого собора (1551 г.): «а нищие и клосные, и гнилые, и престаревшиися в убожестве глад и мраз, и зной и наготу и всякую скорбь терпят, и не имеют, где главы подклонити, — и по миру скитаются. Везде их гнушаются. От глада и от мраза в недозоре умирают и без покаяния и без причастия, ничем не брегомы»[25]. На риторический вопрос Стоглавого собора: «На ком тот грех взыщется?» — крестьянский мир отвечал практически. Свидетельством чему и служит Чюхче- немский монастырь, существовавший и через тридцать лет после того, как на Стоглавом соборе поднят был вопрос «О милостыни». Мирской почин, конечно, не мог изменить ситуацию в целом, о которой с такой откровенностью свидетельствуют материалы Стоглавого собора. Но жизнь подсказывала ответ: на том свете не «взыщется», а на этом ответчиков не сыскать.
Наконец, Павлов–Сильванский усматривает «остатки прежнего общинного единства» (действительно «единство» относилось к «прежнему», весьма почетной давности, времени, задолго до того как в среде общинников появились «прожиточные», «добрые» элементы, преимущественно и стоявшие у кормила мирских властей) в том, что некоторые погосты наряду с мирскими названиями именовались по названиям церквей — Ореховский погост назывался и Спасским, Передольский — Никольским[26].
Вслед за Н. П. Павловым–Сильванским столь своеобразное социальное явление, как «мироприход», было изучено С. В. Юшковым. С. В. Юшков ограничил поле своего исследования Русским Севером XV‑XVII вв., так как по стечению ряда обстоятельств — социальных, исторических, географических — это явление выразилось здесь с наибольшей полнотой. Исследователь обратился к истории приходской жизни на Севере России также и потому, что она не составляла исключительно региональное явление: «Приход на Севере более, чем ще‑либо, сохранил черты древнерусского приходского строя…»[27]
Сочинение С. В. Юшкова «Очерки по истории приходской жизни на Севере России в XV‑XVII вв.» увидело свет в 1913 г. Л. В. Черепнин дал оценку «Очерков» как примерного конкретно–исторического исследования, послужившего «основой для постановки больших тем социально–экономического, политического, идеологического характера»[28]. Выводы, к которым пришел Юшков, состоят в следующем:
«Во–первых, русский приход до XVIII в. был более чем приходом: он был мелкой земской единицей, иногда — миром, он имел не только церковное значение, но и государственное: функции земского самоуправления и удовлетворения религиозных потребностей переплетались в приходе.
Во–вторых, без подробной и детальной истории приходской жизни нельзя изучить многих крупных явлений церковной жизни, например развитие и укоренение раскола в Северном крае объяснимо до конца лишь в том случае, если мы примем во внимание существовавшую организацию прихода, именно «автономию» религиозных общин, граничащую с произволом.
В–третьих, без точного знания организации прихода нельзя изучить историю приходского духовенства, его экономического и бытового положения; нельзя разрешить многих темных вопросов из истории «церквей» как таковых, например имуще- ственно–правового их положения; нельзя понять различие церквей ружных, соборных, вотчинниковых и т. д.» (курсив мой. — А. К.)[29].
Для характеристики приходского строя на Русском Севере ценнейшим источником служит Судебник 1589 г. По словам его исследователя А. И. Копанева, он представлял собой «обширное законодательство», обязанное своим происхождением «крестьянской среде нашего Севера»[30], и выразил «высокий уровень крестьянского самосознания»[31]. С. В. Юшков не рассматривал Судебник в своем труде. Следовательно, есть возможность проверить выводы Юшкова источником универсального содержания, что может служить и углублению наших представлений о первичной ячейке церковной организации и об ее отношении к волостной форме крестьянской организации.
А. И. Копанев в результате тщательного изучения Судебника 1589 г. пришел к следующим выводам: 1) «в большинстве случаев в территориальном отношении волость и церковный приход совпадали»; 2) центром волостного управления служила церковная трапезная; 3) волость — мир сооружал и поддерживал на свои средства церковное здание, приобретал для него утварь и книги; 4) весь церковный причт во главе со священником был выборным и часто состоял из крестьян данной волости (прихода); 5) «церковнослужители» (надо бы раздельно — священнослужители, каковыми являлись поп и дьякон, и церковнослужители, каковыми являлись пономари, просвирни, сторожа и в этом же разряде — чтецы и певчие. — А. К.) зависели от того же волостного мира: от волости они получали пахотную землю и право на пользование «выгонами, лесами, лугами», порой и материальное вознаграждение; 6) «крестьянин, избранный в священники, оставался крестьянином; если он был тяглым крестьянином, то становился «тяглым попом»; 7) приходский причт, наделенный миром землей, обязан был «вместе с волостью платить подати государству и другие мирские сборы»[32].